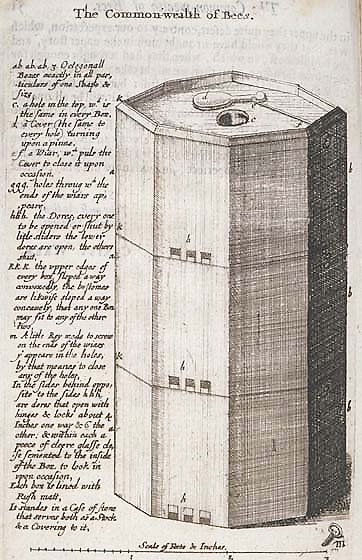Вопросы философии
РУССКАЯ СОФИОЛОГИЯ И АНТРОПОСОФИЯ
Н. К. БОНЕЦКАЯ
Вопросы философии.— 1995.— №7.— С. 79—97.
У русского поэта-антропософа Андрея Белого есть четыре стихотворения 1918 г. под одним и тем же названием «Антропософии». Это любовные стихи, и антропософия в них представлена как живое духовное существо женского рода. Главная примета этого существа — «ясный взгляд», «мерцающие очи», смотрящие на поэта из каких-то пространств света, голубизны, из волн ароматов и музыкальных гармоний. Стихи эти явно ориентированы на поэму «Три свидания» Владимира Соловьева, предмет которой — троекратное видение той, которую Соловьев опознал как Софию древних гностиков и Якоба Беме.
Как понять загадочный поэтический замысел Белого? Почему антропософия — «духовная наука», оккультная система, созданная Рудольфом Штейнером,— в представлении Белого оказывается то ли «сестрой», то ли возлюбленной,— «ласковой, милой, благой», связанной с поэтом таинственной и судьбоносной встречей в вечности? Главное, что означает здесь антропоморфность антропософии?! Предположение о возможных реальных прототипах данных стихотворений (Ася Тургенева, М. Я. Сивере) вопроса не снимает. Разрешается же этот вопрос обращением к очень известной и в некотором отношении ключевой лекции Штейнера «Сущность антропософии», прочитанной в Берлине в феврале 1913 г.; на этой лекции присутствовал Андрей Белый[1]. Но эта лекция не только дает ключ к интересующим нас сейчас стихотворениям Белого: она непосредственно вводит в тему нашего настоящего исследования, поскольку ее содержание перебрасывает мост между русской религиозной культурой конца XIX — начала XX века, развивающейся под знаком Софии, и новейшим немецким гнозисом. Стоит поэтому на ней специально задержаться.
Разговор о русской софиологии и антропософии невозможно было начать с иной фигуры, нежели Андрей Белый: поклонник мистики Владимира Соловьева, ближайший друг таких русских «рыцарей» Софии, как А. Блок и П. Флоренский, сам в ранней молодости живущий в софийных представлениях, Белый в 1912 г. делается учеником Штейнера и, несмотря на все срывы, остается антропософом до конца жизни. В Белом соединились софиолог и антропософ; это подвело нас к проблеме возможного духовного родства русской софиологии и антропософии. Об отношении русских мыслителей к «духовной науке» речь пойдет ниже. Сейчас же обратим внимание на тот примечательнейший факт, что если у наших софиологов существовал интерес к антропософии, то и обратно, для Штейнера была значима София Премудрость Божия. По-видимому, ничего неожиданного в этом быть не должно, если учитывать гностический характер антропософии. Но все же встретить в лекции «Сущность антропософии» Софию как духовное Существо, как Ангела, для русского сознания, привыкшего к медитациям софиологов (от Соловьева до Даниила Андреева) над ангельским образом Софии с Новгородской иконы XV в., является чем-то вроде световой вспышки, делающей явной параллели и соответствия. Рассуждения Штейнера в связи с Софией исключительно остроумны. В несколько упрощенном виде они таковы. София, по Штейнеру, действительно, есть некое высокое Существо (оно воипостазирует божественную Мудрость), в разные эпохи находящееся в различных отношениях к человеку. Древнему греку София предстояла «как вполне объективное существо», как «Мудрость в себе», и ее «он созерцал, именно созерцал, со всей объективностью греческого созерцания»[2]. То, что мы имеем в сочинениях греческих мыслителей — это не «философия», но образ живой Софии, зримой ими; Штейнер здесь имеет в виду древнее ясновидение, которое еще сохранялось в эпоху Платона, возможность непосредственного контакта с духовным миром, отразившегося в творчестве греков. Но начиная с V в. по Р. X. на первом плане для изменившейся человеческой души оказывается не «объективная сущность» Софии, но «отношение к Софии самого «Я»: человек уже не в состоянии созерцать саму по себе мудрость — он переживает лишь свою любовь к Мудрости. И когда Данте адресует «даме Философии» стихи, проникнутые «конкретным, страстным, личным, непосредственным душевным отношением», то он личностно воспринимает — благодаря последним остаткам того же древнего ясновидения — уже не Софию, но Любовь к Софии, по-гречески — Философию. Итак, божественную Софию древний грек созерцал непосредственно, для человека Средневековья Мудрость выступала в обличье Философии. Что же дальше? В XIX в., полагает Штейнер, философия «идей, понятий, объектов», превратившись в своем высшем развитии у Гегеля в «понятие самой себя», завершает свой круг, так что становится ясно, что «ее роль в духовном развитии человечества сыграна». Ныне она уже не та величественная Жена, предстоявшая древним,— и, иронизирует Штейнер, вряд ли сейчас кто-нибудь испытал бы влюбленность в «Науку логики» Гегеля. Однако развитие человечества продолжается, ему предстоит новый выход в духовный мир. Обновленное видение Мудрости Штейнер связывает, разумеется, со своей «духовной наукой». Но примечательно то, что его «софийные» интуиции здесь очень близки соответствующим русским — восходящим к идее «Богочеловечества» Соловьева. Ныне, говорит Штейнер, ощущается новое «предчувствие Софии». Но теперь София переживается в ее близости к человеку, как существо, непосредственно охватывающее человека. И в этой своей слиянности с человеком София вновь предстанет перед ним объективно,— но уже не как София, а как Антропософия — как София, несущая на себе человеческое существо. И о Мудрости, принявшей новый образ — теперь уже образ Антропософии — вновь, как и в эпоху Данте, может быть написано любовное стихотворение. В Антропософии человек зрит свою собственную сущность, сходящую к нему «небесной Богиней»: ее-то имя Штейнером усвоено его «духовной науке», являющейся духовным путем к ней...
Итак, Андрей Белый — слушатель лекции «Сущность антропософии» — хотел уподобиться Данте, когда — в XX в. — воспевал «сестру Антропософию».
Твой ясный взгляд, в нем я себя ловлю,
В нем необъемлемое вновь объемлю:
Себя, отображенного — люблю,
Себя, отображенного — приемлю.
Не является ли хотя бы это четверостишие Белого иллюстрацией к софиологическим построениям Штейнера? Лекция 1913г. врезалась в память Белого (стихи писались пять лет спустя): в ней русский поэт, видимо, действительно, как в зеркале, увидел самого себя — как софиолога и антропософа одновременно.
В книгах и лекционных курсах Штейнера можно обнаружить многочисленные упоминания о «Мудрости» — в разных контекстах, с разными значениями. В 1920 г. им читался и особый цикл из четырех лекций на эту тему—под названием «Поиски новой Изиды, Божественной Софии». Цикл был приурочен к Рождеству, и в Софии здесь Штейнером подчеркнут христианский аспект. Снова София — и духовное существо, аналог египетской Изиды, и всеобъемлющая мировая мудрость, и особенное знание, даваемое антропософией; новым, по сравнению с лекцией 1913 г., является намек Штейнера на то, что с Софией связана тайна Марии. Рассуждения Штейнера начинаются с сетования: современные христиане утратили реальное внутреннее ощущение Христа. Согласно Евангелию, весть о Рождестве была воспринята глубоким благочестием простых пастухов и одухотворенным знанием ученых магов; обе эти способности ныне выродились. Внешняя чувственность и позитивная наука, занявшие в бытии нового человека их место, к Христу приблизить его не могут. Но духовная наука, антропософия, в состоянии указать путь для развития у человека тех скрытых способностей, которые заново откроют ему Христа. Если мистерии Египта строились вокруг мифа об Изиде, ищущей тело Озириса, то современная мистерия, говорит Штейнер, напротив, есть искание Мудрости-Изиды: «Не Христа не достает нам (...) — познания Христа, Софии о Христе, Изиды о Христе не достает нам»[3],— утверждает он в гностическом ключе. В основе цикла «Поиски новой Изиды...» — христология Штейнера («Пятое евангелие») и антропософская мистическая практика. Собственно религиозный — имеющий отношение к единому Богу-Творцу аспект Софии при этом никак не обозначен; это неудивительно, если принять во внимание то, что Штейнер вообще уклоняется от сближения антропософии с религией.
Однако если мы обратимся к ученикам Штейнера, то у них мы сможем иногда увидеть противоположное стремление. Так, Эмиль Бок трактует тему Софии в категориях религиозно-богословских,— и здесь обнаруживается явная близость софиологии антропософской и софиологии русских религиозных мыслителей. София, согласно Эмилю Боку, содержит в себе две тайны — тайну «мировой мудрости, что дарует свет познания», и тайну «Матери мира как жизнедательницы». Этот второй момент — мистерия «Материнской мировой души» — побуждает Бока сблизить Софию с Марией и говорить вообще о «Марии-Софии». С другой стороны, Бок утверждает, что в раннем христианстве образ Марии связывался с идеей Святого Духа. «Тогда ощущали, что Мария, так же, как и Христос, есть «более чем человек»: «осенение» Марии Святым Духом в момент Благовещения было состоянием длительным,— так что, «почитая Марию, тем самым почитали Духа Святого»[4]. Эти положения суть опоры и русской софиологии, которая живет чаянием новой эры «Третьего Завета», откровения Святого Духа.
2
Итак, «духовная наука» Штейнера не просто гностична, но и софийна; София — «Божественная Мудрость», одновременно и некое высокое духовное существо — является предметом особого внимания Штейнера, причем постижение Софии отождествляется им с антропософским духовным путем. Русские мыслители тянулись к антропософии, интуитивно чувствуя — еще до всякой рефлексии — некую духовную близость к ней[5]. Дело в том, что и тот феномен, который условились называть «русской религиозной философией», на самом деле, все же вряд ли философия — по крайней мере, в том смысле, в каком это слово употребляется в новейшее время[6]. Отечественная софиология тяготеет к мифологии; вспомним, как теоретические построения П. Флоренского стягиваются к фигуре огненного Ангела, изображенного на Новгородской иконе Софии Премудрости Божией: за софиологией стоит миф о Небесной Софии («Столп и утверждение Истины»). В другом случае русская философия видится своеобразной натурфилософией,— так, тот же Флоренский вскрывает внутренний смысл природных веществ, вовлеченных в православный культ («Философия культа»). И как правило, русская философия занята не категориально-абстрактными построениями, но истинами факта,— разумеется, факта духовного. В этой своей духовной конкретности русская софиологическая мысль сознательно ориентирована на гетеанизм, с которого, как известно, начинал и Штейнер. Вспомнив еще, что свое мышление Флоренский называл «конкретной метафизикой», подытожим: идеал как софиологии, так и русской философии в целом — «мудрость», и никак не «строгая наука».
Владимир Соловьев, родоначальник русской религиозной мысли, чье творчество принадлежит XIX в., является в большей степени собственно философом, чем его последователи. Однако истоком «нового религиозного сознания» XX в. оказалась стоящая за его спекулятивными построениями истина отнюдь не философского порядка. Это — истина о Софии как о Душе Мира, о человечестве в Боге. В Христе-Богочеловеке, согласно Соловьеву, соединены Логос — Второе Лицо Св. Троицы, и София; идея предвечности твари не принадлежит традиционному богословию и относится к кругу теософских (в широком смысле слова) представлений. Штейнер, знакомый с «Чтениями о Богочеловечестве» Соловьева, с восхищением говорил об их авторе; не забудем, что и сам Соловьев определял свои воззрения как «свободную теософию». Все творчество Соловьева распустилось из троекратного мистического видения, описанного в поэме «Три свидания». Трижды произошла встреча Соловьева с неким женственным Ангелом; этого Ангела Соловьев опознал как Софию Премудрость Божию, о которой он читал у Беме и других мистиков Запада, о которой учил гностик Валентин. Если бы Соловьев проигнорировал видения или осмыслил их по-другому, дав духовной Сущности, явившейся ему, другое имя, развитие русской философии в XX в., наверное, было бы иным! Но произошло так, как произошло; творчество самого Соловьева и его последователей в XX в. стало софийным богословствованием — разворачиванием духовного импульса, полученного Соловьевым при «свиданиях». Назвав свою путеводительницу Софией, направив русскую философию в сторону искания «божественной мудрости», Соловьев, в сущности, перебросил мост традиции в рубеж XVIII—XIX вв.: прецедент софиологии в истории русской культуры — это идеология масонства XVIII в. вместе с мистическими исканиями эпохи Александра I[7].
Русской софиологией движет отнюдь не отрешенный рациональный интерес: цель ее стремлений — постижение бытия как объективной духовной реальности, а в некоторых случаях — развитие скрытых человеческих способностей ради проникновения в невидимый мир[8]. Русская софиология — это не гнозис: для этого ей не хватает системности, конкретности духовного знания, разработанности пути к нему,— но ее можно охарактеризовать как страстный порыв к гнозису. В этом отношении правомерно считать программными некоторые статьи Н. Бердяева. Так, в статье 1905 г. «О новом религиозном сознании» Бердяев декларирует отказ «новых» религиозных мыслителей (к числу которых он относит и себя) от «исторического» — «аскетического» христианства, отрицающего культурное делание в тварном мире во имя индивидуального спасения. Религиозное, а затем и общекультурное возрождение Бердяев связывает с «вечной» религией Св. Троицы, торжество которой видится ему в приближении эпохи Св. Духа. Возрождение это, по Бердяеву — христианское и языческое одновременно: «Мы благоговейно склоняемся не только перед Крестом, но и перед божественно-прекрасным телом Венеры»[9]. «Воскрешение» языческих богов — это и реабилитация земли, плоти, пола, культуры,— всей полноты тварного бытия. Вместе с тем «новое религиозное сознание» включает и тоску по небу. Словом, речь идет у Бердяева о невероятной — с традиционной точки зрения — новой религиозной интуиции: то ли непостижимом синтезе противоположных духовных начал, то ли неведомом синкретизме. И из этой интуиции должна вырасти религиозно-оправданная культура нового типа.
Важнейшим аспектом такой культуры является знание, гнозис: «Гнозис есть органическая часть религиозной жизни»[10],— пишет Бердяев в 1916 г. Если в качестве коррелята православия и вообще, традиционного христианства в XIX в. закрепилась наука позитивного типа, то новая религиозность и новый гнозис, согласно Бердяеву, суть два очень близких миросозерцательных аспекта эпохи Св. Духа. На определенном этапе духовного развития человек был промыслительно отстранен от духовного мира: христианство, взявшее верх над язычеством, «закрыло от человека иерархию природных духов», «некоторые космические силы и тайны». Благодаря этому человек, освободившийся от власти стихийных демонов, получил возможность «стать духовно на ноги»,— но наряду с этим и невольно «христианская Церковь механизировала природу и сделала возможными науку и технику XIX века» с их чисто посюсторонней, материалистической ориентацией,— стимулировала возникновение «в этом смысле позитивизма». Сейчас же, утверждает Бердяев, человечество вступает в тот свой возраст, «когда незнание становится опасным», а все попытки религиозного опрощения — реакционными. Будущее, по словам Бердяева,— за «мудрым, софийным знанием»; слабости и самообману «должна быть противопоставлена светоносная религиозная мысль, творческий гнозис, откровение в человеке Софии — Божественной Премудрости». Как видно, русская софиология рвалась за пределы Новозаветного Откровения. «Откровений» Соловьеву было недостаточно: чаяли откровения Св. Духа, Третьей Ипостаси Божества[11]. Пока же — искали принципиально новых духовных путей (Д. Мережковский, Вяч. Иванов), размышляли о новом культе — «апокалипсических» мистериях (переписка Андрея Белого и Флоренского 1904—1905 гг.), стремились по-новому философствовать (экзистенциализм Бердяева). В этих своих исканиях русская религиозная мысль встретилась с антропософией Рудольфа Штейнера.
3
В литературе нам до сих пор не попадалась прямая постановка проблем, связанных с этой примечательной встречей. Это была встреча, с одной стороны, новейшей волны немецкой мистики, через фигуру Гете получившей доступ, так сказать, в легальную, светскую культуру,— с другой — тоже обновленной философским и естественно-научным духом XIX—XX вв. русской эзотерики. История этого контакта имеет достаточно отчетливые начало и конец: начинается она в 1909—1910 гг., сближением Андрея Белого в петербургском салоне Вячеслава Иванова с эмиссаром и русской ученицей Штейнера, А. Р. Минцловой,— заканчивается же в 1935 г. выходом в свет в парижской эмиграции сборника статей русских философов под названием «Переселение душ» (при участии Бердяева и С. Булгакова) с глубоко враждебной критикой антропософии. Если ранее Бердяев и Булгаков и находили в антропософии какие-то положительные моменты, то теперь их отношение к ней представало чисто негативным,— так что можно говорить о состоявшемся в 1935 г. полном разрыве русской мысли начала века с «духовной наукой».
Из тех, кто составил славу русского Серебряного века, всерьез связали свой духовный путь с антропософией два человека — Андрей Белый и Максимилиан Волошин. Большую ученическую верность Штейнеру выказал Белый. Он знакомится со Штейнером в 1912 г.; вместе с женой Асей Тургеневой[12] он слушает ряд лекционных курсов Штейнера в Кельне, Мюнхене, Базеле, Штутгарте; Штейнер не просто очаровывает Белого, но осознается им как ожидаемый всю жизнь «родной мудрец». Молодая чета полностью отдается под духовное водительство Штейнера. 1912—1913 гг. для Белого были временем невероятного духовного подъема, связанного с медитативной практикой, получением совершенно нового — но при этом бесконечно близкого его душе знания, а главное, общением со Штейнером и М. Я. Сивере. На 1914—1916 гг. падает участие Белого в строительстве первого Гетеанума, «Иоаннова Здания»; затем — отъезд в связи с войной в Россию, деятельность в русском антропософском обществе. И кризисный перелом в отношении к Штейнеру, происшедший с Белым в 1922 г., не помешал ему сохранить антропософское мировоззрение до конца жизни... Другие русские мыслители были по преимуществу читателями книг — и отчасти опубликованных лекционных курсов Штейнера. На «Мистерии древности и христианство» и «Теософию» Штейнера есть ссылки в библиографии к «Столпу и утверждению Истины» Флоренского. Булгаков, кроме книг, хорошо знал христологические циклы Штейнера,— лично с основоположником антропософии эти два ведущих русских софиолога не встречались. Бердяев, помимо чтения, в 1913 г., по свидетельству Белого, слушал Штейнера в Гельсингфорсе, отнесясь двойственно к его идеям[13]. Ограничимся сейчас этими фигурами; за пределами нашего исследования мы вынуждены оставить такие весомые для русской культуры начала XX в. имена лиц, в той или иной степени приобщившихся к антропософии, как Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Э. Метнер, Эллис, Н. Лосский, Г. Флоровский, Б. Вышеславцев, В. Зеньковский — и это помимо сонма просто талантливых людей[14].
Результаты встречи русской софиологической мысли, вышедшей из Соловьева, с антропософией оценить нелегко: картина пестра и сложна, ситуация не завершена. Развитие русской софиологии изначально шло как бы по направлению к антропософии, и в 10-е годы состоялась их встреча. Гностически настроенная русская мысль приступила к «духовной науке» с целым кругом назревших вопросов,— но, кроме того, это обращение было не одним умственным, но и религиозным алканием. И в целом русскую мысль в конце концов постигло разочарование.
Обратное воздействие усмотреть совсем трудно. Хотя Штейнер придавал славянам, и в особенности русским, огромную роль в эволюционном будущем человечества, не создается впечатления, что он сам особенно пристально интересовался русской культурой. Из русских мыслителей он познакомился с одним Соловьевым,,— талант же даже преданнейшего Андрея Белого — как последний сам с обидой пишет — поддержан отнюдь не был. Нам не приходилось читать о том, что Штейнер провидчески оценил русскую революцию 1917 г., что при его теоретической «русофильской» установке (и декларируемом ясновидении, отметим) сделать было бы более чем естественно. Кончина Штейнера в 1925 г., кажется, вообще лишила антропософию ее творческого начала.
С другой стороны, несмотря на всю открытость русских софиологов навстречу новому — новой духовности, новому гнозису — какие-то очень важные, ключевые аспекты антропософии оказались для русского сознания неприемлемыми. Поистине камнем преткновения для него стала христология Штейнера вместе с весьма чуждой русскому уму идеей перевоплощения,— главное же, отталкивало отсутствие Бога в системе Штейнера. Оглядываясь сейчас назад, мы видим, что в целом отношение к «духовной науке» было двойственным, самопротиворечивым, мучительным. Привлекали какие-то интуиции и идеи Штейнера, казались прозрениями в бытие, ощущались интимно-близкими, многое объясняли; но предпочесть авторитет «Доктора» десятивековой вере, распадающегося на Будду, Заратустру, двух «Иисусов» и Логоса антропософского Христа — православному лику Спаса?! Этому сопротивлялось все существо тогдашнего, не выпавшего из традиции русского человека, против этих неслыханных вещей восставали его последние глубины. При всей богословской свободе софиологов — ориентиры им часто указывал Якоб Беме (как и русским масонам XVIII в.), куда чаще, чем святой Афанасий Александрийский — они не могли принять Штейнера религиозно. В Штейнере и антропософии не находили благодати — особой православной любовной, милующей духовности, забывая при этом, что дары Духа очень различны .... Словом, встреча не удалась — но лишь в том смысле, что Бердяев и Булгаков не стали правоверными антропософами, а Штейнер не написал, скажем, исследования о русской Софии. Как духовное же событие, встреча состоялась и принесла свои плоды. Это был, действительно, диалог — встречи, на общей территории, в общем предмете,— а не чисто враждебное противостояние. Поэтому контакт, скажем, Бердяева, Андрея Белого, Флоренского и Булгакова с антропософией были яркими и значимыми.
4
Если говорить о ситуации в целом, то к антропософии русское сознание тянулось, ощущая кризис традиционного христианства, с одной стороны, и позитивной науки — с другой; кризис этот нашел отражение и в европейской философии. Русские религиозные мыслители были действительно новыми душами, с новыми бытийственными интуициями. Антропософией они заинтересовались именно по причине этой своей новизны; попытаемся уловить особенность каждой из состоявшихся при этом их «встреч» с «духовной наукой».
1. Н. А. Бердяев
Специфической, глубоко интимной (и на самом деле, единственной) интуицией Бердяева была устремленность к духу. Бердяев искал не Бога, но — дух,— вернее сказать, Бога и Христа-Богочеловека Бердяев хотел ощутить, пережить, понять через чисто духовные представления. Дух Бердяев противопоставлял не столько материи (хотя и ей тоже), сколько вещи, а точнее, всякому овеществленному объекту познания; и поскольку для него, как наследника философии XIX в., была весьма значима оппозиция субъект/объект, то дух им соотносился с деятельностью субъекта. Отсюда — своеобразный апофатизм Бердяева во взгляде на духовное бытие: о нем нельзя мыслить как об объекте, «овеществлять» его, «объективировать» его. Наделяя дух предикатами, возникшими при созерцании вещественного мира, мы тем самым, по мысли Бердяева, не улавливаем самой сути «духовного» и остаемся в плену объективации. Дух недопустимо представлять предметно, он не подлежит оформлению, его нельзя описать, пользуясь «овеществляющими» понятиями (в том числе, и философскими),— и единственное, как можно его помыслить — это в терминах «я», в категориях субъектности. В стремлении Бердяева описать дух и духовное как деятельность «я», субъекта, в намерении философствовать в категориях, связанных с жизнью «я», родился экзистенциализм. Но тот же самый порыв к духу, жажда выхода в духовный мир обратили интерес Бердяева к антропософии — «духовной науке». Оккультизм Штейнера претендовал на адекватный, однозначный показ невидимых миров, на постижение незримого существа человека. И как и Бердяев, огромное значение Штейнера придавал человеческому «я», считая, что развитие именно этого аспекта человека является задачей настоящей эпохи. Здесь, в этих двух точках — интересе к духу и акцентировании «я» — Бердяев встретился со Штейнером.
Однако результатом этой встречи стало разочарование Бердяева, Он очень серьезно относился к антропософии и некоторые аспекты «духовной науки» признавал как безусловные: «Только в оккультизме,— писал он в 1916 г., имея в виду главным образом антропософию,— можно найти истинное знание о том, что материальный, отвердевший предметный мир есть временный момент космической эволюции, а не что-то абсолютно устойчивое и неизменное»[15]. Ему очень импонировал антропософский гнозис, учение о духовном космосе, о сложном духовно-телесном строении человека. Главную заслугу и правоту Штейнера Бердяев видел в гностической установке, что ставило Бердяева перед роковым вопросом: не есть ли антропософия — то самое искомое русской мыслью, мудрое, софийное знание? Но при всей двойственности (вспомним, замеченной и Белым) отношения к антропософии, последним словом Бердяева стало «нет» «духовной науке» и ее создателю.
В антропософии он усматривает продолжение позитивной науки XIX в., приложение ее устаревших, по мнению Бердяева, принципов к невидимым планам бытия. С богословской же, так сказать, стороны, антропософия, исключающая из своего кругозора Бога, может быть охарактеризована как «космическое прельщение». Хотя предмет антропософии — духовный мир, но в книгах Штейнера говорится лишь об «объектной» его стороне, а по существу, об эволюции все того же нашего материального мира. Штейнер, подобно ученым-позитивистам, согласно Бердяеву, не ведает самой сути духовного бытия; его ясновидению мир предстает аналитически разъятым, анатомированным. Труды Штейнера с описаниями духовных иерархий и эволюционных эпох подобны «учебникам географии и минералогии»; эти путеводители по невидимым мирам, «духовные Бедекеры», тупо заучиваются массой антропософов, отнюдь не имеющих того духовного опыта, который имел сам Штейнер. Антропософия, писал Бердяев, исключает творчество; подлинно творческие личности не примут «духовной науки», ее приверженцы — «средняя культурная масса», хотя и обладающая духовными запросами. Антропософия не знает Бога — но не знает и человека как образа Божия, как цельной личности: человек у Штейнера распадается, размывается, исчезает в своих многочисленных оболочках и бесконечных перевоплощениях. Нет в антропософии и Христа-Богочеловека: Он заменен «космическим импульсом», с одной стороны, и неким сложным и опять-таки космическим существом — с другой, В учении Штейнера Бердяев не обнаруживает самых заветных своих интуиции — свободы, творчества, любви, благодати и главное, тайны: в антропософском миросозерцании неизвестное переживается как секрет, но не тайна, всегда являющаяся коррелятом к личностной свободе...
Можно было бы продолжать этот перечень недостатков антропософии,— тем более, что бердяевская критика «духовной науки» в философском отношении самая весомая в сравнении с высказываниями на этот счет других представителей русской мысли. Однако суть возражений Бердяева ясна; поэтому перейдем к их обсуждению. Как уже было сказано, главный момент философского мировоззрения Бердяева — то, что сделало его крупнейшим русским философом XX в., но также и «отцом» экзистенциализма — это его, хотелось бы сказать, философская решимость мыслить дух совершенно особым образом,— в его инобытийности, инаковости, трансцендентности эвклидову миру, всей сфере опыта, а также мышления человека Нового времени. В качестве экзистенциализма был осознан именно этот своеобразный апофатизм Бердяева, проявившийся в протесте против любой «объективации» духа. Неудивительно, что, читая такие книги Штейнера, как «Теософия», «Тайноведение», «Мистерии древности и христианство», Бердяев видел в них тот же «объективирующий» способ рассуждений, что и у позитивистов: Штейнер, по мнению Бердяева, описывал космические планы, как какой-нибудь ученый-геолог — срезы и пласты горных пород. Но сам Бердяев признавал, что он критикует «популярную» антропософию — антропософию, застывшую в перечислительных сведениях справочников или учебников. Но разве не естественно, что в свои книги Штейнер собрал именно это самое, дистанцированное от живого опыта, сгущенное и отстоявшееся знание? Ведь цель научных монографий, к жанру которых можно было бы отнести вышеназванные труды Штейнера, именно такова!
Между тем если бы Бердяев больше имел дело не с книгами, а с лекционными циклами Штейнера — не с догматическими «христологическими», но с лекциями, сказанными как бы на случай, по незначительному поводу, удержавшими сам процесс мыслительного творчества основателя антропософии, то он встретил бы там не каталоги и перечни, но пульсацию живой мысли — причем мысли, питающейся интуициями столь непривычными и, действительно, инобытийными, что, думается, Бердяев увидел бы в этом многое, весьма близкое себе. Критика Бердяевым антропософии философски и религиозно очень сильна,— но она идет извне, не от имманентного ее предмету опыта,— а, вернее сказать, из области другого, личного бердяевского опыта. Опыт этот, заметим, остается загадкой даже для знатока творчества Бердяева; и можно усомниться в том, что Бердяев — принципиальный экзистенциалист-апофатик — принял бы вообще какую бы то ни было (не только антропософскую) онтологию. Все здесь упирается в опыт: и об этом свидетельствует «спор об антропософии», происшедший на страницах издаваемого в Париже журнала русской эмиграции «Путь»[16].
Оппонентами в этом споре выступили Бердяев и ученица Штейнера Н. Тургенева; начался спор с опровержения Тургеневой ряда антиантропософских положений, высказанных Бердяевым в его книге «Философия свободного духа». Не вдаваясь в детали спора, заметим, что это был спор двух разных вер,— бесплодность такого спора очевидна. Каждая спорящая сторона, сосредоточившись на предметах второстепенных, обошла главное, не ответила на ключевые доводы противника. Тургенева, поправив явные передергивания Бердяева, со странной настойчивостью принялась защищать Штейнера от бердяевских упреков его в «несторианстве»; неблагодарная задача, поскольку если рассуждать о христологии Штейнера, всерьез привлекая для этого понятие ереси, то пришлось бы говорить о ереси в квадрате, в кубе и т. д.— вместо того чтобы вспоминать допотопные несторианство или арианство. И это так же нелепо, как называть ересью коммунистический атеизм. С другой стороны, Тургенева совершенно резонно, опираясь на слова Штейнера о том, что современному человеку, пусть и молящемуся молитвой Господней, неведомо истинное ощущение Бога-Отца, усомнилась, что сам Бердяев, критикуя антропософию за внерелигиозность, обладает настоящим опытом богообщения. Бердяев же, проигнорировав этот весомейший выпад в собственный адрес, в свою очередь разоблачает антропософию как скрытую веру — веру в Штейнера, в посвященных учителей и их учения:
«Антропософия есть вероисповедание, а не свободное исследование и не свободная наука»[17], именоваться которыми, заметим, она претендует. Антропософский оппонент на это, действительно, ничего возразить не в силах,— но ведь если опыт Штейнера истинен, а не «прельщение и самообман», как подозревает Бердяев, то самые остроумные и благочестивые доводы противников «духовной науки» рушатся, подобно карточным домикам. Речь здесь идет о вещах недоказуемых, отчего возникает мучительная безысходность: «Спор об антропософии так же труден, как и всякий спор о вере»,— написал в ответе Тургеневой Бердяев, прекрасно чувствовавший суть ситуации. Эти слова можно отнести и к встрече русской философии с антропософией в целом.
Но в чем была вера самого Бердяева? Отметим сейчас лишь то, что затрагивает нашу тему. Бердяев считал себя софиологом и гностиком, причем истинный христианский гнозис и истинную софиологию находил у Я. Беме. Это представление о Софии как «Деве», «девственности человека», падшей и подлежащей восстановлению, вошедшей в мир в образе Девы Марии,— с другой стороны, как о Красоте, созерцаемой великим искусством — очень близко тому, которое создали русские софиологи. Но Бердяев игнорирует при этом уникальность духовного опыта Беме, изложенного мистиком-башмачником в книге «Аврора, или Утренняя Заря в восхождении», хорошо известной русскому читателю. И все разговоры Бердяева о гнозисе имеют чисто головной характер,— здесь неоспоримое преимущество методологии Штейнера. В целом, несмотря ни на что, «диалог» «философа свободного духа» Бердяева с создателем «духовной науки» Штейнером представляет большой интерес.
5
2. Андрей Белый
Если Бердяев проработал по преимуществу философский аспект антропософии, то Белый, обретший в ней духовный путь для себя, вошел внутрь антропософского видения мира и смог оценить постулаты «духовной науки» на практике. «Встреча» Белого с антропософией, очевидно, была совсем иной.
Чтобы говорить об антропософском опыте Белого, надо хотя бы вкратце обрисовать его личность. Духовное устроение Белого отличалось прямо-таки полярной двойственностью. С одной стороны, ему была присуща сильнейшая тяга к мистическим переживаниям как таковым; именно поэтому Белый — «пленный дух» (М. Цветаева) — еще в 900-е годы питал куда больший интерес к сектантской русской мистике, чем к православной «трезвенности». Как известно, мистическое сектантство на Руси развивалось в двух направлениях — аскетическом (секта скопцов) и оргийном (хлысты). И лучшее, по нашему мнению, художественное произведение Белого — роман «Серебряный голубь» — темой своей имеет тайную и явную жизнь секты оргийного толка: в «голубях» романа просматриваются сектанты-хлысты. Белый, судя по большой силе этого произведения, глубоко погрузился — хотя, разумеется, лишь в воображении — в страшноватую эротическую мистику «голубей»; занимали же сектанты Белого, равно как и других из того же высшего культурного круга, по той причине, что народные мистики ожидали, подобно соловьевцам, Второго Пришествия и откровения Святого Духа. Встречи с «Духом» хлысты искали в дионисийских экстазах, достигаемых на радениях. Хлыстовская стихия, по неисповедимости Промысла, оказалась неотъемлемой от душевных глубин сына профессора Московского университета Бориса Бугаева; надо думать, он испытывал страх перед носимой в себе темной языческой бездной. И это «мистическое славянофильство» было как бы уравновешено в Белом «западническим» рационализмом, ориентацией на «культуру», поисками внутренней дисциплины. До Штейнера его кумиром был Г. Риккерт, и обращение его к антропософии было внутренне подготовлено как отличным знанием сочинений старых немецких мистиков, так и проработкой немецкой философии вплоть до неокантианцев. Кажется, к гармонии в душе Белого стихийное и рациональное начала все же не пришли: чаемый синтез Востока и Запада в его личности не состоялся, и, по меткому слову Бердяева, Белый, видимо, провиденциально был обречен остаться «слишком славянофилом и слишком западником»[18].
В Штейнере Белый увидел того «родного мудреца»[19], который укажет ему лично его, Андрея Белого, дорогу ко Христу. В конечном счете Белый искал Христа,— но искал на софийных, соловьевских путях: «Чувствую, что веяние Софии есть мой удел»[20]. Белый, образно говоря, хотел разом убить двух зайцев — сохранить свои стихийно-мистические порывы, с которыми было связано его философское и художественное творчество, но при этом обрести и Христа. Православие, принятое всерьез, не позволило бы ему этого. Но, кажется, экзальтированная мечтательность, присущая Белому, отнюдь не показана и антропософскому — тоже весьма трезвому пути. По мемуарным свидетельствам Белого можно видеть, что пребывание его около Штейнера сопровождалось постоянным горячечным возбуждением. Символический характер его мировидения обострился до предела, во всех жизненных пустяках ему виделся второй план, всюду воображались скрытые, обращенные лично к нему смыслы. Белый представлял, что он — любимый ученик Штейнера и что на него возложена глобальная, вселенская миссия. Свои переживания он осмыслял как опыт миста, приготовляемого к посвящению; во сне он как бы принял из рук Штейнера посвящение Грааля...
Но, по собственному свидетельству Белого, в своей напряженнейшей внутренней жизни он оставался в полном одиночестве, без реальной поддержки «Доктора». «Доктор» отнюдь не был для своих учеников кем-то вроде монастырского старца! Возможно, следуя своей установке на развитие «я», Штейнер оставлял антропософов-практиков наедине с самими собой. Антропософская община в Дорнахе, если верить описаниям Белого, также была лишена соборного — в церковном понимании — духа; что бы там ни говорить, подвижничество Белого было лишено даже и малой — не то, что благодатной, но просто дружеской поддержки. И когда произошел срыв, когда Белый уже не мог противостоять натиску темных сил, когда подступили состояния, уже не описываемые в терминах антропософии, тогда — примечательнейший факт! — Белого спас от безумия не «Доктор», не медитации, а простая, но отчаянно-жаркая молитва перед иконкой святого Серафима, привезенная из России ... Спас Христос через Своего святого, через Церковь,— спасло православие.
... Но срыв произошел,— и здесь непонятно-двойственной остается его внутренняя оценка самим Белым, позднейший анализ событий его душевной жизни, сопровождавших строительство «Иоаннова Здания». Острота личностного кризиса, переоценка Штейнера были таковы, что в 1922 г., по свидетельству М. Цветаевой («Пленный дух»), Белый называл «Доктора» дьяволом. Но в «Воспоминаниях о Штейнере», написанных уже в Советской России в 1928—1929 гг., Штейнер в изображении Белого предстает как тот, кто впервые показал ему Христа. Белый замечает, что если Штейнер призывает к развитию «Я» (Ich), то на самом деле это означает пробуждение Христа в душе: Ich — монограмма I. Сh., Иисуса Христа. Итак, диапазон оценки Белым Штейнера — немного-немало, но от дьявола до христоносца, тайнозрителя Голгофы, таинственного иерея. Образ Штейнера, видимый через призму опыта Белого, двоится куда сильнее, чем в рассуждениях Бердяева. Последний, впрочем, имел дело по преимуществу с текстами Штейнера, тогда как Белый — с самим «Доктором». Так что встреча Белого с антропософией была глубоко личной, и главное, что было вынесено из нее русским учеником Соловьева — это память о Штейнере-человеке. Самая высокая и всепрощающая любовь — заметим, весьма не характерная для Белого 20-х годов, цинически осмеивавшего своих прежних кумиров и друзей — ощущается в его признании: «Я не знаю прекраснее явления; четыре года я наблюдал этого человека во всех проявлениях: в величии, в простоте, в равновесиях и неравновесиях, в справедливости и несправедливости, в любви, в гневе, в скорби, в смехе, в шутке; и — что же: померк он во мне, как просто человек? Нет,— сквозь все, что я в нем понял и чего не понял, выступила основная тема: медленно разгорающихся — восхищения, любви, доверия, радости, что судьба сподобила меня его встретить, ибо он — главная «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» моей жизни»[21]. Соблазном ли была для Белого антропософия, и искусителем — Штейнер,— или же тот, кого Белый обрел в глубине своего духа, был, действительно, Христом?[22] В этом все дело, и это останется последней тайной встречи Белого с тем, кого он ощущал как «Друга», близкого ему с незапамятных времен.
б
Бердяев и Андрей Белый были свободными мыслителями, не привязанными ни к религиозной идеологии, ни вообще к какой-либо устойчивой системе взглядов (кроме идущих изнутри убеждений). Отношение их к антропософии оказывалось поэтому абсолютно непредвзятым. Ниже мы попытаемся осмыслить встречу с «Geheimwi f3enschaft» двух крупнейших русских софиологов, жизненно связавших себя с православием — священников Павла Флоренского и Сергия Булгакова. Долг мыслить православно, добровольно принятый ими на себя, предварял всякое их суждение, в частности и философско-критическое. Но Флоренский и Булгаков были не православными мыслителями святоотеческого толка, а носителями «нового религиозного сознания», вызванного к жизни Соловьевым. И эта «новизна» в данном случае выступает в виде их тоже глубинно-двойственного отношения к «тайному знанию» вообще и антропософии в частности.
3. Свящ. Павел Флоренский
В связи с интересующей нас в данный момент проблемой софиологии и антропософии фигуру Флоренского мы привлекаем со значительной долей условности: явных следов знакомства (несомненно, имевшего место) Флоренского с оккультизмом именно в варианте Штейнера в его произведениях нет, как практически нет и критических отзывов в адрес антропософии как таковой (об исключении будет сказано ниже). Но, на наш взгляд, по всему духовно-умственному складу личности Флоренский был ближе Штейнеру, чем кто-либо иной из русских софиологов. Более того, мы дерзнули бы сказать, что никем иным, как Флоренским была предпринята отчасти удавшаяся попытка создать «духовную науку» (в широком смысле слова) на русской и даже на православной почве. В отличие от гностика-теоретика Бердяева (равно как и от других русских деятелей духовного «ренессанса», ориентирующихся на гностицизм — включая и Соловьева), Флоренский был гностиком-практиком. Его многогранная научная деятельность — от мистического богословия до исследований электротехнических материалов — могла иметь место благодаря отнюдь не учености кабинетного, начетнического типа: симбиоз в одном научном сознании абстрактного интереса, скажем, к химии морских водорослей и Элевсинским мистериям выглядел бы по меньшей мере странным. Если же это дилетантизм, то особого, высшего, так сказать, порядка: Флоренский обладал способностью к специфическому созерцанию вещей — от человеческого слова до минерала; благодаря ей он постигал,— быть может, лучше сказать, ему открывалась скрытая, невидимая,— духовно-содержательная, смысловая сторона мира.
Кажется, здесь все же несколько иной дар, нежели у Штейнера: Флоренский, в отличие от последнего, не имел никакого специального интереса к истории, эволюции, что было коньком Штейнера («Акаша-хроника», «Пятое евангелие» и т. п. вещи); он не видел ауры предметов (ср. «Как достичь познания высших миров» Штейнера) и т. д. Но как и Штейнеру, Флоренскому был присущ своеобразный космизм мировидения, проявившийся в том, что за всеми как природными, так и вовлеченными в культуру вещами и явлениями Флоренский ощущал присутствие живых существ, духов — «богов», сказали бы древние. О таком мировидении, при внешнем его оценивании, говорят как об анимизме, пантеизме, мифологичности и т. д. Флоренский, безусловно, православный человек и мыслитель,— но в русском православии ему как бы особенно дорога его «мифологическая», как-то соотносящаяся с язычеством сторона. Мысленный взгляд Флоренского — экклезиолога, создателя «философии культа» православной Церкви — направлен не столько на Главу Церкви, Христа, сколько на космически-тварный аспект Церкви. Христос вообще не включен Флоренским в его учение о Церкви, и потому о его экклезиологии можно сказать, что в ней больше православия, нежели христианства. Предметом созерцания Флоренского был духовный мир,— потому оно не столько религиозно в христианском смысле, сколько теософично. Здесь-то Флоренский и сближается со Штейнером.
Мысль Флоренского бьется в тисках православной идеологии, когда он хочет описать зримый им духовный космос — хотя бы невидимую сторону православного богослужения: о подобных вещах в церковной литературе принято говорить крайне условно, осторожно и уклончиво, а отнюдь не с тем пронзительным реализмом, какой был свойствен видению Флоренского. Необыкновенно реалистично его описание тех духовных существ, которые присутствуют в крещальной воде и кадильном дыму, совершенно конкретна метафизика материальной стороны иконы — не только образа, лика, но и золота, красок, самой иконной доски,— и абсолютно нова его попытка осознать словесную сторону богослужения. Оккультное учение об именах; теория иконы как живого символа Первообраза; видение закатного неба как откровения Софии («Небесные знамения»), леса как особого существа («Смысл идеализма»), святого Сергия Радонежского как ангела-хранителя России («Троице-Сергиева Лавра и Россия») и т. д. и т. д.— что это? безусловно — и по определению самого Флоренского — своеобразный гетеанизм, усмотрение первоявлений в окружающем человека мире. Можно назвать такое мировидение и разновидностью платонизма (заметим, что «идеи» Платона, по мнению Флоренского, суть живые существа; то же самое, кстати, имеем и у Штейнера), и реалистически-конкретным символизмом. Но сейчас хотелось бы сделать акцент на научно-описательной форме свидетельствования Флоренского об этом невидимом плане. «Философия культа» — это никакое не философствование, но изложение как бы истин факта, результатов прямого созерцания. Тот же самый познавательный принцип мы находим у Штейнера,— и если бы Бердяев читал «Философию культа», то он наверняка бы усмотрел у Флоренского «объективацию» духовной реальности ...
Мы хотим назвать тот принцип познания, который продемонстрировал — едва ли не всеми своими произведениями — Флоренский, «духовно-научным». Если бы осуществилось намерение Флоренского написать труд «У водоразделов мысли» (из которого мы имеем лишь разделы о языке и об иконе), то на русской почве существовала бы гностическая система, по широте охвата реальности способная конкурировать с антропософией[23]. Но в действительности можно говорить только об отдельных гностических исследованиях Флоренского. Софиология Флоренского, в его магистерской диссертации 1914 года «Столп и утверждение Истины» выступившая, скорее, в богословски-метафизическом обличье, в 20-е годы приняла практический характер описания духовного мира, сопряженного с православием. Софиология обернулась действенным гнозисом, «духовной наукой».
Книга Штейнера «Мистерии древности и христианство» вышла в свет в самом начале 900-х годов; из нее — а может, из более ранних трудов теософов — к Флоренскому пришла идея о связи христианства с эзотерическим язычеством. Экклезиология Флоренского есть разворачивание интуиции Церкви как мистерии. Таковой Церковь является то ли по ее изначальной природе, то ли в задании: придя к православию, Флоренский поставил перед собой цель «довести до мистерий» «святое зерно», которое он нашел в церковной наличности. Церковь для Флоренского 20-х годов — мистериальный институт, причем таинства освящают человека вместе с неодушевленной природой как бы автоматически, благодаря особой сложной системе тайносовершительных действий. Присущая христианству — хотя бы «историческому» — ориентация на личного Бога, вытекающая отсюда молитвенностъ православной духовности в экклезиологии Флоренского в расчет не принимаются. Священник для Флоренского — «теург», молитва, в сущности, ничем не отличается от магических заклинаний. Флоренскому, кажется, хотелось видеть в русском православии христианский аналог языческих мистерий,— и его разочарование в Церкви, о котором он заявил уже в 30-е годы, вероятно, связано с тем, что он не нашел в ней эзотерики, о которой мечтал вместе с Белым в начале 900-х. За десять лет до начала строительства «Иоаннова Здания» в Дорнахе эти «русские мальчики» в восторженной переписке строили проекты эзотерического «ордена», ждали вот-вот Христа-«грядущего», разрабатывали обрядовую сторону нового — «апокалиптического» христианства… Неудивительно, что православие стало ощущаться ими — одним раньше, другим позже — «позитивным» и будничным.
Все же уже в 10-е годы между бывшими друзьями — Флоренским и Белым — состоялся обмен репликами и по поводу антропософии. Нам эти два письма интересны сейчас, поскольку благодаря им мы имеем единственное прямое высказывание Флоренского на счет антропософской «духовной науки». Правда, заметим, оно двойственно и уклончиво. В 1914 г., в разгар своей деятельности при Штейнере, Белый пишет — после многолетней разлуки-размолвки друзей — Флоренскому письмо с отзывом на его книгу «Столп и утверждение Истины». Белый-антропософ сообщает бывшему товарищу и собеседнику о своем полном отходе от православия и вместе о горячем принятии труда Флоренского с его пафосом «живого религиозного опыта». Затем же Белый пытается рассказать Флоренскому об антропософии как духовном пути; при этом антропософские смыслы он хочет облечь в термины святоотеческой аскетики. Как православием, так и антропософией, пишет Белый, сердце человека признается за главный жизненный центр. Но православная мистика видится Белому «потоплением» ума в сердце[24],— антропософия же, по словам Белого, есть «свободная жизнь» ума в сердце, когда «и сердце думает, и ум чувствует» — «Denken» не упраздняется, но соединяется с «Fuhlen»[25]. Критикуя «монашескую школу» за «гипертрофирование Fuhlen», а также за незнание «космического смысла Христа», Белый, скорее между строк, чем прямо, просит Флоренского не осуждать его за «отщепенство», умоляет поддержать на найденном пути.
Флоренский, как ему это было свойственно, отвечает очень тонко и увертливо; в его письме нет и следа осуждающей риторики, подобающей ему в данном случае по его «долгу ... службы в мире», по его священническому «послушанию». Немного странно, правда, то, что Флоренский пишет данное письмо, словно ничего не зная об антропософии (это после штудирования множества оккультных сочинений со ссылками на них в библиографии «Столпа»). Но, кажется, Флоренский искренен, когда пишет бывшему другу: «Для меня Ваше противопоставление опыта восточного и опыта антропософского преждевременно: — может быть, я всецело принимаю опыт антропософский, может быть, я его всецело отвергаю. Для меня это просто неизвестно»[26]. Белый сделал ошибку, описав аскезу антропософскую с помощью категорий исихазма — Флоренский прекрасно знал оккультическую терминологию и понял бы Белого без этих ложных усилий с его стороны[27]. И когда Флоренский справедливо возражает Белому, что сердце в православной аскетике — это отнюдь не «Fuhlen», не чувствительность, но особое духовное зрение, то здесь вскрывается общая печальная ситуация утраты сознанием XX в. смысла святоотеческих терминов. Непонятно, что такое «ум», «сердце», не говоря уже о такой вещи как их «соединение»,— забыт сам святоотеческий опыт ... Снова, как и в случае «спора об антропософии» между Бердяевым и Тургеневой, здесь собеседники — Белый и Флоренский — говорят из разных духовных миров; диалога при этом в принципе состояться не могло. «Неисповедима глубина богатства Премудрости Божией»,— пишет Флоренский Белому в ответ на его вопрошание об антропософии[28]; примечательно, что, отказываясь высказать окончательное, однозначное суждение о ней, Флоренский вспоминает о Софии...
7
4. Свящ. Сергий Булгаков
Среди русских софиологов Булгакову принадлежит особое место: им была предпринята грандиозная попытка реформировать всю систему православного богословия, включив в нее — и более того, приняв за ее основу представление о Софии как о твари и, в особенности, человечестве в Боге. Булгаков считал, что софиологический догмат отнюдь не иноприроден христианству, но всегда присутствовал в церковной мысли и литургической жизни как истина, лишь не дошедшая до отчетливого осознания ее церковным разумом. Однако, полагал Булгаков, пришло время сформулировать ее и возвести в степень догмата. Без этого неуяснимым остается даже догмат Боговоплощения — основа основ христианства. Действительно, если человечество с самого начала и существенно не причастно Божеству, то мысля о Христе как о Богочеловеке, пришлось бы допустить соединение в Нем двух природ, между которыми зияет онтологическая пропасть. Имеется в христианстве, в самом деле, некий эзотеризм,— написал однажды Бердяев; и эта тайна христианства в том, что есть Человек в Боге, что Логос — Вторая Ипостась Св. Троицы — никто другой, как этот Божественный Человек, Богочеловек: «И поистине человек через Христа — Абсолютного Человека — пребывает в самых недрах Св. Троицы»[29]. Булгаков оказывается сторонником именно такого христианского «эзотеризма», поскольку, не акцентируя специально антропологической проблемы (как это делает Бердяев), он идет от той же софийной — соловьевской метафизики. Булгаковым разработано учение о Христе («Агнец Божий»), о Церкви («Невеста Агнца»), Деве Марии («Купина неопалимая») , ангельском мире («Лестница Иаковля»); помимо этого в булгаковской софиологии поставлен ряд менее глобальных, но при этом не менее острых философских и богословских проблем (проблемы философии языка, искусства, иконы, метафизики смерти и т. д.).
Как мыслитель, Булгаков близок к типу метафизика — умозрительного богослова, «чистого» философа: он отнюдь не был ни визионером, подобно Соловьеву, не природным гностиком-тайнозрителем, как Флоренский, ни, тем более, мистиком-экстатиком. Несколько огрубляя, можно сказать, что София для Булгакова — скорее, понятие платонической онтологии, чем субъект пронзительно-личной встречи. Глубокие прозрения в бытие, которых множество в трудах Булгакова, имеют собственно философский — но не оккультный характер. Мыслительные строй и стиль Булгакова отмечены душевным и духовным здоровьем, не слишком частыми в деятелях русского Серебряного века[30].
Окончание см. ниже.
http://www.philosophy.ru/library/vopros/58.html